Нежелательная организация
Йельский университет - неправительственная организация, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации
В Нью-Хейвене постоянно форсили пиццу.
Утверждалось, что она там какая-то особенно вкусная; под «шикарной» пиццей подразумевались, однако, не рабоче-крестьянские перегруженные начинкой пироги из Альфа-Дельты рядом с алкомаркетом, где постоянно менялись объявления о пропаже детей, а кошмарно сожженные тонкие итальянские коржи из Девятого квартала, в кондитерских магазинчиках которого царила атмосфера уныния, напоминавшая о российских булочных из девяностых. Что в этих сгоревших сухарях было такого роскошного, мне до сих пор остается непонятным. С другой стороны, может, это была и не пицца вовсе. В 2018 году в Нью-Хейвене жил персонаж Пиццагейта Джон Подеста, которому администрация Йеля выдала какое-то почётное место какого-то председателя.
Сейчас я даже думать об этом не хочу. Меня берет холодок, когда я думаю, насколько крошечными были шансы возникновения всего этого в моей жизни. Порой я удивляюсь, что вообще оттуда как-то выбралась и сейчас имею шанс и право открыто и свободно жить в родной стране, лишь иногда в ужасе вспоминая об украденном личном дневнике, синяке под глазом соседа по общаге и всём том политическом триллере, в котором обратилась моя попытка получить высшее образование.
Вообще в универ я попала в 2015 году после перевода из РГГУ. Это не было никакой программой по обмену; я всего лишь нагуглила возможность этого перевода, задала пару вопросов по емейлу (касавшихся технической возможности и некредитной финансовой помощи) и, самостоятельно обойдя преподавателей и стряся с вуза академическую справку, отправила нужные документы в несколько вузов Лиги Плюща. Каким-то образом меня взяли, и в 18 лет я полетела в Нью-Хейвен. Как и мои родители, я в жизни не была за рубежом, и про культурный шок не имела и малейшего понятия. Меня бросили в вуз сразу на второй курс. Там вообще всем, кто переводился, было неприятненько, даже если ты прибыл из американского вуза. «Трансферы» старались держаться вместе, ведь, избежав психотронный террор проживания на Старом Кампусе, превращающий за первый курс выпускника старшей школы в мутанта вида Yalie, они имели какую-то способность отстроиться от общей шизы йельской жизни. Что уж там говорить про трансферов, приехавших из другой страны.
Америку я возненавидела на третий же день, семестр провела по большей части в тогда ещё существовавшей курилке общаги Давенпорт с банкой пива в одной руке и сигаретой — в другой, и сессию закрыла с заметным трудом. К тому же меня поселили с богатой кореянкой из Гонконга Янной, толстенькой задроткой-интроверткой, приехавшей в Новую Англию из UCLA сразу с двумя ящиками бутылок воды, стоптанными нью-беленсами и даже целой прилетевшей из Гонконга тётей. Взаимная классовая ненависть разгорелась моментально. Я вешала на стены комнаты пародийные таблички, высмеившивавшие на русском языке соседку; Янна каждый день поливала меня туалетным освежителем для воздуха, ссылаясь на смертельную аллергию на запах сигарет.
В моменте я знала, что если сейчас протяну весенний семестр, то адаптируюсь и мне станет сильно легче; но перспектива выжить казалась очень туманной. Поэтому в конце 2015 года я Решила Бросить Йель и построить в Москве какую-то карьеру. Я намеревалась больше никогда не возвращаться в эту страну уродов, клоназепама, расистских скандалов и худших вечеринок на Земле.
2016-2018 года я провела, меняя самые странные работы в своей жизни и даже восстановившись на отделении социо-культурных исследований РГГУ. Это восстановление тогда было гордым финальным актом возвращения на Родину и сования факов в лицо мифа о «шикарном американском образовании». Кончилось оно быстро: когда меня нахер выгнали из РГГУ. Пытаясь совместить работу в концертном агентстве с очным образованием и рожая в универской курилке подводку к первым концертам Маркула, я прогуляла экзамен.
Летом 2018 я рассудила, что израсходовала все шансы на получение какой-то карьеры без корки, и решила восстановиться в Америке. Цель по возвращению у меня была простая. Как-то дотащиться до окончания университета, не сойдя с ума. Я знала, что для этого надо было выбрать специальность, которая бы не требовала особых интеллектуальных усилий. Так и оказалась антропологом, специализирующимся на России.

Куда проблематичнее было с социальным вопросом. Большинство студентов Йеля ещё в 2015 году казались мне кошмарными додиками. Некоторые из моих тогдашних друзей-трансферов еще оставались на кампусе, но и с ними с избранием Трампа произошли тотальные метаморфозы. Впрочем, мой уровень душности тогда был тоже запределен. Рассудив, что эту сторону своей личности — склонность бесконечно толкать телеги про «правую политику», — я подавить не смогу, я решила вляпаться в какую-нибудь правую политическую организацию на напрочь левом кампусе, прикинув, что иначе я останусь в абсолютной изоляции.
Сложно переоценить уровень левого давления, царивший в воздухе Нью-Хейвена в конце десятых годов. Как-то во время «шоппинга» (первая неделя семестра, когда ты ещё не зафиксировал своё расписание и ходишь-рассматриваешь все предложенные курсы; поговорите еще тут о коммодификации образования) я зашла на курс по лингвистической антропологии, которую вел древний дедушка, знаменитейший учёный, чуть ли не один из основателей поля. Представляя предмет, он сказал:
— Студент, которого я держал в голове, пока готовил этот курс — монолингвальный американец.
В аудитории зазвучали напряжённые сверчки. Большинство аудитории были так называемые «женщины цвета». Профессор моргнул и удивленно попросил поднять руки билингвов. Подняла руки почти вся аудитория. Включая меня — а что мне было терять.
В другой раз я зашла на курс по защите данных. Профессором был бодрый джен-иксер с огромной коллекцией Нью-Беленсов. С 2020 года он поскакал по примерно всем сомнительным горячим темам от биобезопасности до войны с Украиной. А если его погуглить, гугл честно на русском подписывает, что этот активист data privacy, превратившийся в активиста public health, превратившийся в расследователя варкраймов, и всё это за какие-то 5 лет — «американский шпион». Но мужик так-то казался вполне ровным. На приколе такой, в классных кроссовках. Рассказывая про приватность данных, он продемонстрировал с проектора какую-то цитату и спросил у аудитории, что с этой цитатой не так. Какой-то васповато-лоховского вида пацан, подняв руку, ответил:
— «Она гетеромаскулинная»?
Это чтобы вы поняли, насколько был высок градус воука во время первого срока Трампа, и насколько в академии он был всеобъемлющ. Он отдавал даже красными кхмерами: потому что исходил не от преподавателей и институций, а буквально от студентов бакалавриата. Чувствовалось, что изменившееся в силу смены полиси так называемое студенческое тело давит на преподавателей, которые то моргали, шокированные изменением эпох, то были только рады использовать оппортунизм. Отменили легендарный курс о каноне западного искусства; был скандал вокруг департамента «Этничность, раса и миграция».
В такой обстановке нормальному человеку действительно было сложно находиться без возможности какой-то «консервативной» коммуникации. Почти все прибывшие на кампус русские бакалавры за несколько лет присутствия на кампусе жестоко правели, моментально превращаясь из милейших веганов-леволибералов в членов псевдоправых дискуссионных кружков.
В качестве последних попыток наладить социальные связи вне правого андеграунда я встретилась с Маргарет, наполовину кореянкой из Миннеаполиса, с которой общалась осенью пятнадцатого года. Она тоже брала академический отпуск (как принято, по кукухе), поэтому ещё доучивалась на бакалавре. Мы сидели на лавках в модернистском дворе общаги Морзе, напротив полуутопленной в землю столовой с панорамными стеклянными окнами, и я спросила у нее — ну как, чё, а где тут вообще тусуются. Маргарет, застенчиво прикрыв полуазиатские глаза, сказала: «Ну, я устраиваю оргии. Хочешь, приходи.»
(Позже я познакомилась с остальными тремя из четырех организатор_ок йельских оргий. Как минимум одна была членом Демократических социалистов Америки и даже по какой-то причине сидела в городском совете Нью-Хейвена. Чтобы попасть на оргию, надо было заполнять гугл-форму. Из интереса я RSVPнула почти на каждую, но в итоге так и не нашла смелости пойти и посмотреть. Оказывавшиеся там знакомые рассказывали, что дело это максимально унылое: большинство людей приходили туда пожрать клубники в шоколаде и попить шампанского, уныло наблюдая за тем как по центру комнаты совокупляется какая-нибудь отчаянная пара.
Кроме йельских оргий, в относительно публичном доступе были голые вечеринки с самыми мистическими пригласительными емейлами на свете. Туда захаживал мой сосед по общаге Мигель, о котором мы ещё поговорим позже; он говорил, что это самая странная встреча на свете, где поддерживается самый натужный визуальный контакт на свете.)
Посещение оргий как основа социального взаимодействия меня не прельщало. Так, валяясь на синей односпальной кровати в Пирсонской общаге в тридцатиградусной жаре со стопроцентной влажностью, я лениво изучала сайт Йельского политсоюза. Вообще это дебатная организация; концепт, как и почти все в Йельском университе, украден из Оксфорда. К политической жизни эта организация отношения никакого не имела; местные «партии» представляли собой исключительно политические кружки. Впрочем, в партиях проходили выборы, и это была симуляция политических интриг – вокруг абсолютно ничего, кроме как симуляционной Абсолютной Власти над любителями часами обсуждать абстрактную философию.
Изучив семь разных «партий», я остановилась на «Правой», многообещающе называвшей себя «одновременно экспрессивной, интеллектуально элитистской, агрессивной, субверсивной, эксцентрической и маниакально готовой бросить вызов всем подряд и кому угодно». Поразительные додики. Другие партии Правого крыла, впрочем, казались мне ещё душнее. Поэтому я черканула на партийный емейл письмо и получила приглашение на «коктейльную вечеринку» с просьбой красиво нарядиться.
Мероприятие проходило в моем же подъезде. Я рассудила, что это знак, и начала готовиться.
Вообще с подъезда-то всё и началось. Когда я приехала на кампус, у меня не работал студенческий на вход. Старую карточку до сих пор не проапдейтили на 2018 год, не отметив, что я восстановилась. Был ключ от комнаты I33 той же «квартиры», в которой мы с Янной умирали от депрессии в 2015 году, – но в подъезд мне надо было как-то попасть. Но в 2018 она принадлежала мне целиком — пустая гостиная, две одноместные и две двухместные комнаты, тайный выход в соседний подъезд — всё было моё, и весь семестр я прописывала в пустых комнатах сначала своих знакомых, а потом, когда о моей недвижимости прознали йельские знакомые, и других людей.
Но чтобы проапдейтить айдишник, мне надо было тащиться в центр документов — куда-то в район Проспекта. Для этого надо было хотя бы сбросить чемодан. Не зная, что попасть в свою конуру в подъезде I мне может помочь буквально любой заезжающий студент, я дёрнула какого-то проходившего мимо худого, бледного брюнета с выразительными бровями, спросив, не живёт ли он в этом подъезде. Оказалось, что да, – персонаж представился Мигелем и пикнул студенческим нужную дверь.
Через несколько дней оказалось, что коктейльную вечеринку Правой партии держит именно он. Странное совпадение. Я надела своё любимое платье – в лучшем духе московской моды середины десятых годов, это был чёрный трикотажный мешок из какой-то невнятной стритвер-марки а-ля Bat Norton, нашедший свой вечный покой где-то на мусорке Нью-Хейвена после моего побега из США, — и спустилась на два этажа подъезда.
В крошечной комнате с высокими потолками, напоминавшей пенал, набились, как селедки в бочке, отборные додики, отчаянно потевшие в своих синтетических рубашках. Пышущий здоровьем двухметровый увалень с голливудской улыбкой разливал птенцам правого вида вписочные миксдринки. Розовощёкий пацан спросил у меня, какое моё самое controversial политическое мнение. Я с жалостью на него посмотрела, как-то отболталась, и, расстроившись, решила выйти покурить.
У выхода из подъезда стояла девушка с длинными кудрявыми рыжими волосами. Она играла роль фейс-контроля, тяжёлым взглядом оглядывая залетающих на Коктейльную вечеринку первокурсников. Квинн — так звали эту четверокурсницу — показалась мне «своей»; она была остра на язык, тараторила, как все мои московские подружки, и безостановочно пыхала джуулом. Самое главное – она разговаривала не как средний йельский студент, с его вечными умолчаниями, интригами и желанием до последней буквы соблюсти леволиберальный атмосферный консенсус. А как нормальный человек. Я решила, что если такие люди как Квинн находятся в этой организации, то, наверно, в ней что-то есть. Несмотря на то, что все остальные показались мне просто кошмарными лохами.
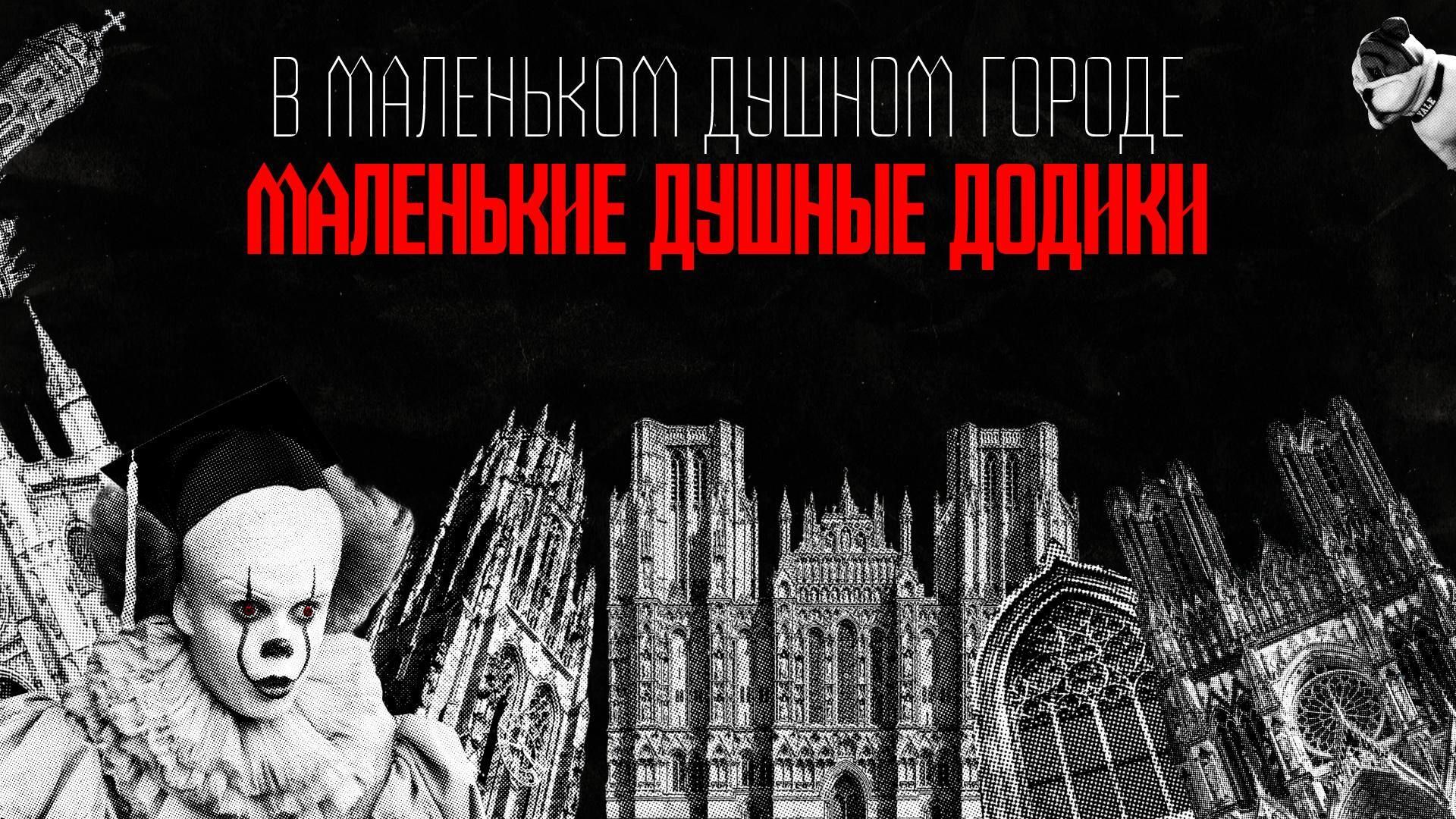
Так меня и завело в Правую партию. На свою голову.
Внешне Партия представляла собой кружок политических дебатов. В понедельник члены и сочувствующие получали приглашение на дебаты – очередной какой-нибудь программной, часто повторявшейся темы в духе «Решаем: Кокаин в Торговых Автоматах – Вот Американский Путь». В четверг, всегда в «высокотрадиционное» время «7:45 post meridiem» (Партия обожала свой юморной канцелярит), студенты собирались в душную арендованную комнатку на втором этаже скрипучего дома, чтобы пять-шесть часов подряд бухать и читать друг перед другом затянутые речи. Приезжие из России люди либерального толка часто оказывались в восторге от такой свободы слова.
Это затягивало. Члены и Правой партии, и других партий Политсоюза часто почти не участвовали в других внеучебных затеях университета, коих было буквальное море. Симуляция политических интриг перла, как запрещённые стимуляторы. Во вторник ты ходил на общесоюзные дебаты, в среду – заглядывал в гости к Тори или Консерваторам, в четверг – дебатировал на домашнем полу, в пятницу-субботу – безостановочно пьянствовал с однопартийцами, опционально распевая песни про партийные чистки, и всё повторялось вновь из семестра в семестр, размеченное лишь сомнительными затеями Сменяемости Власти в обществах, когда студенты выбирали себе нового исполнителя роли Всесильного и Всезнающего Председателя, а также его бюрократических заместителей.
Выборами называлась и инициация в члены тайного общества под названием «Правая Партия». Тяжёлая ирония для молодого демократического активиста: обозвать демократической процедурой цепочку эксклюзивных ритуалов, одно допущение до которых уже является условием вступления в партию, который заведомо пройдут все, кто просто довёл его до конца.
Изъявляющих желание вступить в организацию студентов называли «петиционерами». Таким была и я, когда одним поздним осенним вечером я сидела за компом в своей общажной комнате, и мне позвонил кто-то из второкурсников. «Выходииииии», – прошипел в трубку неопознанный пацанский голос. Я спустилась по серой лестнице и открыла дверь. Перед моим подъездом, заступая на лысеющий газон, в формацию буквы V выстроились наряженные в костюмы второ- и третьекурсники. Все как один в позе футболистов на пенальти, защищающих своё мужское достоинство от случайного удара мячом.
Во главе делегации стоял француз Жан Гонсалес, который с невыразимым пафосом и присущей ему парцелляцией проорал на весь пирсонский двор: — Мисс Козеко! Приглашается! В следующий четверг! На Страшные Дебаты!
И вручил мне ярко-голубой лист плотной бумаги. На нём была напечатана «стрёмная» вариация обычного приглашения на дебаты. С рунами, странными (с болью вфотошопленными наверняка тем же Гонсалесом) цитатками и темой дебатов: «̨̢͚̜̩͛̿̉͢Р̷̵̨̰̪̎̐ͥͨе̦̝̜͛̾̈͌ͫ̅ш̵̡̙͙̤̐̅̑͟а̫͕͔͓͑̌͋̂ͣё͓͕̭́͒̉̐̕͢м̷̢͖ͧͪͦ̃̂̚:̷͚̝̙̐̃͗̍͡ ͇ͨͫ̏ͬ͟͜͠͞П̖͚̹͖̒̆ͭ͡͠о̋҉̷̢͕̤̦̯ͦд̺ͣ͋̏̋̃͑͞ͅу̷̴̗̟ͣ͊ͣ͌̌м̛̼̖͙ͪͧͮ̋̎а̳̮̝̠͂͗͛̀ͭй͎̖̟̩̻͊̚̚ͅ ̴̷̙̱̒͂̈́͒͝о͎̞̩ͫ̄̓̏҉̗ ̰̥́̅̓͑ͮ̆͢С̸͇͈ͭ̿ͬͥ͟͢е̲̮̬̰̽̋̀͌̌р̵͉̦͈̣͙̎͜͞е͖̫̩̠̓̂̓ͨ̈д̵̵̱͔̟̔̽ͫ͘й̥̯̓̋ͫ͋̋̉н̨̢̘͕ͣ̂̅̎͝е̸̨̥̟͈́̂̑̚»̊̏҉̶̾͑͑ͫ̕ . Кругленьким почерком в верхнем правом углу было написано моё имя.
Всё было просчитано. Через час, когда делегация нарядных футболистов обошла всех остальных вступающих, мне написала, кажется, Квинн. Она сказала, что все встречаются у нее на квартире, которую она снимала на двоих с Председателем. Понадеявшись, что обещается просто тусовка, я вышла с главного входа общаги, перешла дорогу и зашла на 210 Парк-стрит.
Квинн и Председатель – в тот семестр это была Вайолет, четверокурсница-математик днём, бесталанная, но полная энтузиазма саундклауд-певичка ночью, – снимали двушку с отдельной кухней; между двумя маленькими спальнями была зажата небольшая гостиная, большинство места в которой занимал странный антикварный набор мебели: барная стойка и барный же шкаф, в котором стояли початые бутылки. На боку стойки были выцарапаны имена и года выпуска предыдущих жителей квартиры. Перед стойкой стояли кружком диваны и кресла; за ними был выход на большую террасу с видом на неблагополучные районы Нью-Хейвена. Обычно вечеринки у Квинн выглядели как позднесоветские кухонные посиделки с общением; люди приходили, кошмарно напивались и яростно обсуждали какие-то политические вопросы.
Но в этот первый день Думанья атмосфера стояла какая-то не такая. Вместо обычных разговоров старшекурсники с порога начали заваливать прибывших вступающих в Партию казавшимися мне бессмысленными вопросами про историю организации; её устройство; кто такой Чарльз Гарленд; и успели ли они уже Подумать о Середине.
Разговоры были пугающе ретивые. Я быстро сбежала на балкон, сославшись на желание покурить. Там я задумчиво смотрела на этих малышей через балконную дверь, цепляя безымянным пальцем мёртвую кожу на обветренных губах, и меня брала щемящая тоска. В их молодых лицах по ту сторону неровного стекла я видела всю их жизнь. Видела их в 25, в 35, в 60, и вокруг каждого из присутствующих фракталом разворачивался орнамент всей их судьбы.
Их жизненный путь как будто был начертан заранее, идеально прямой, как линия ризографа — ло скул, натсек, пиэйчди по истории Франции, арт-галерея в Лондоне, поздние дети, двухэтажный дом на зипкоде поприличнее, играющие в сквош потомки. Ни у одного из них в жизни не было поворота круче, чем попадание в Йель вместо Тафтса или Амхёрста, и с этим дипломом они были, как говорится, set for life. Тёплое место в хорошей корпорации, субурбия Среднего запада, псина по кличке «Лаки», тихая зависимость от бензодиазепинов; развод, кризис среднего возраста, увлечение выпиливанием фигурок из дерева или видеоблог про вязание. A life well lived.
У моих московских знакомых такого не было. Узоры фортуны не складывались вокруг их голов в голографическое хало. После развала СССР российское общество ещё не успело настояться и прочертить чёткие социальные линии, связывавшие хотя бы отцов и детей стабильным социально-генеалогическим соединением. Лица моих друзей, покрытые патиной мегаполисного невроза, с сухой от московского воздуха кожей, никогда не оказывались окаймленными дорожной разметкой, обещавшей движение по инерции без какой-либо личной агентности. Московская молодёжь всегда была здесь и сейчас, между хаотичным прошлым и туманным будущим, и по сравнению с ними йельские малыши из вершины среднего класса были глубоко инопланетны и донельзя тривиальны.
Предаваясь греху уныния, я достала вторую сижку из пачки русского синего Кэмела. Тут на балкон вышел обеспокоенный моим состоянием Шон-Калория. Жизнерадостный рыжеватый техасец, он был по-мальчишески симпатичным парнишкой и выглядел как хулиган из книжек Драгунского, включая задиристый вихор волос над широким лбом. С таким фенотипом дворового пацана сложно сочеталось тяжёлое расстройство пищевого поведения и того, что называется body image. На второй год в Партии худенький, невысокий пацан решил раскачаться как можно сильнее, что привело к граничащему с отказом почек перепотреблению сухого белка, протеиновых коктейлей и стероидов. У него были розовые щёки, но это был не бодрый румянец, а свойственная южанам розацеа неясного генезиса. Улыбался он по-американски, широко и доверительно, но его выдавал извечный желвак на сжатой челюсти, демонстрировавший сильнейшее внутреннее напряжение.
— Ты как? — спросил Шон, присев на стоявшую в торце балкона скамейку. — А то народ переживает.
Я вяло помахала сигаретой.
— Да всё ок, я просто покурить вышла.
Шон посмотрел на меня пару секунд, задумчиво поиграв желваком.
— Так вот! У меня как раз к тебе был вопрос! — решился он. — Как ты думаешь, в чём роль Секретаря-Казначея в Партии?
Думанье длилось неделю. По-английски это всё называлось pondering. Очередное пафосное, канцеляристское слово, с которым средний американец сталкивался только в процессе подготовки к SAT, американскому аналогу ЕГЭ. Всю неделю Думанья вступающих окучивали очень конкретно, каждый чёртов день собирая нас в разных локациях, задавая одни и те же вопросы и отчаянно делая детям мозги.
За одним ужином на той неделе, по традиции, в столовке общаги Давенпорт, Квинн обеспокоенно оглядела сбившихся в кучку первокурсников и протянула:
— Во время недели Думанья надо о себе заботиться.
Ужин подходил к концу. Первокурсники тянули кока-колу из стаканов из фиолетового пластика и ковыряли мятное мороженое с шоколадной крошкой, напряжённо смотря на старшекурсников. Квинн продолжила:
— Поэтому идите сейчас в общежитие, сделайте домашку на завтра, потом встретимся.
Больше всего жаждал продолжить бессмысленную словодрочку Джаред, дико выбешивавший меня длинноволосый рыжий бородач, любивший хеви-метал, ДнД и полное собрание сочинений Гегеля. В нём была какая-то неуёмная активность члена комсомола. Он как раз попротестовал, но все чинно пошли домой — действительно делать уроки.
Время вышло; Мигель написал всем в личку, мол, приходите ко мне в комнату. Тем вечером там было особенно душно. В крошечный гроб на первом этаже подъезда и так редко влезало больше четырех человек, но когда он забивался, в комнате было попросту нечем дышать. Началась очередная сессия ассистированного Думанья, в тот вечер посвящённая исключительно проблеме Середины.
— Середина, это... О! Я знаю! — Председатель, до этого степенно сидевшая на поднятой на метр от пола кровати Мигеля, в момент озарилась, как будто наконец доказала теорему Ферма или хз, чем она там занималась на своём матфаке. — Дайте листочек.
Мигель протянул ей листок, вырванный из тетрадки в линейку. Председатель плюхнулась на пол и стала рисовать на нём треугольники. Она провела внутри одного из них линию и указала на неё тонким пальцем с отрезанным под корень ногтём.
— Что это?!
— Биссектриса? — выдавила я сквозь пересохшее горло.
— Нет, не биссектриса. — Председатель деловито мотнула головой и прочертила ещё две линии. — Вот где они пересекаются в центре, как это называется?
— Геометрический центр треугольника? — предложил свой вариант Габриэль, напряжённо думая над загадкой. (Представитель загадочного американского класса «детей-изобретателей», через полгода Габриэль, к вящему неудовольствию партийной элиты, начал засаживать Председателю, а последний раз я его видела в Яме на Китай-Городе, когда он прилетел в Москву петь в рамках Йельского русского хора.)
— Нет! Не совсем! Ну подумай, это середина! Daria, а ты как думаешь?
Я посмотрела на эти треугольники, на этот протёртый деревянный пол Пирсонского колледжа, на ворсистый йельско-синий ковёр, на казённый матрас Мигелевой односпальной кровати, прислушалась к шуму кудахтанья первокурсников, и мне стало очень плохо. Земля ушла из-под ног, уши заложило, и в голове у меня забилась одна мысль — что где-то умирают люди, что я в тысячах километров и двух континентах от дома, и сейчас мне трахают мозг вокруг совсем неизвестно чего.
— Я сейчас вернусь, — сдавленным голосом пропищала я и выскочила, просочившись через толпу у входа, на улицу — прочь, прочь с осеннего двора Пирсона, подальше от светящихся окон, где в своих маленьких комнатах делали свои дебильные домашние задания и отгадывали свои дебильные загадки и рисовали свои дебильные треугольники люди, с которыми у меня из общего была только смутная нелюбовь к коммунизму. Сходила в алкомаркет, купила 0.25 вискаря, поднялась мимо комнаты Мигеля на свой пустой этаж и грустно напилась в одиночестве.
До выборов меня всё равно допустили. Это был сомнительный ритуал. В районе Хэллоуина первокурсников вывели на «Страшную прогулку». Несколько часов под руководством вошедшего в роль офицера гестапо Гонсалеза нас гоняли (в костюмах, платьях и туфлях) по всему кампусу, где старшекурсники отчаянно пытались нас всячески напугать — типа, выставить лицом к стенке и ором пытаться заставить нас ответить на какие-то глубоко копающие вопросы. Всё это закончилось в подвале одного здания, где мы оказались около полуночи, после трех-четырех часов безостановочной беготни по центру города. В тот вечер шел мокрый снег, и мы все насквозь промокли — но до утра мы сидели в этом подвале и ждали, пока нас по одному, по алфавиту, вызовут куда-то.
Пятеро из семи человек из того вступающего класса, активно истерически жестикулируя и исписывая мелом доску, пытались понять, что же такое Середина, о которой они активно Думали всю неделю Думанья. Не принимали участие в происходящем двое: я и Ник, парень из очень бедной семьи из Северной Каролины, чья мать-одиночка работала продавцом в супермаркете. Нам обоим казалось, что тратить силы на всё это безумие — это просто за гранью. Поэтому мы, нахохлившись, молча сидели в углу, пытаясь обсохнуть и согреться, и ждали, когда всё это наконец кончится.
Наконец под утро дошла очередь и до моей буквы K. Один из третьекурсников проводил меня до душного домика на Краун-стрит и завёл в темную комнату для дебатов. Свет был выключен, Председатель сидела на своём стуле, и на Полу перед ней был выставлен круг из искусственных электрических свечек на батарейке.
— Мисс Козеко, поздравляю вас с принятием в Партию. Середина — это ваше второе имя, middle name. Вы можете выбрать то, которое вам нравится, или оставить то, которое вам выбрали родители. Поздравляю!
Удар молотка, включается свет. Все люди, мучавшие тебя неделю до этого, подскакивали и начинали радостно обнимать и поздравлять тебя. Whiplash, как говорится по-английски. Эмоциональная манипуляция.
В следующем году я оказалась на другой стороне вступления в Партию и поразилась, насколько это всё было одновременно и натужно, и бессмысленно. Для старшекурсников устраивание Страшной прогулки было всего лишь смешной капустной шуткой. Но пока первокурсники сидели в подвале, в домике на Краун проходили, собственно, выборы, где старшекурсники ходили по кругу и обсуждали моральные качества кандидатов на членство в секте — попросту говоря, долгие и затянутые сплетни. Я посидела пару речей, плюнула и ушла в Сову, вернувшись только под утро — как раз к моменту, когда в партийную комнату начали затаскивать первокурсников. Позже я узнала, что во время моих, собственно, выборов, Мигель прочитал речь, что сомневается в моем уважении к традициям организации.
За преображение Партии из простого кружка дебатов (по большей части состоявшего из ветеранов Корейской и Второй Мировой) в секту был ответственнен один человек. Партийные старожилы говорили о Чарльзе Гарланде, когда-то-Председателе, с полным благоговения придыханием. Он был первым Председателем, при котором партийный ритуал приобрёл свою форму. По легенде, он больше всех горел за правоконсервативное дело, придумал концепцию инициации и постоянно вовлекал любителей пьяно поговорить про политику в постоянную социальную жизнь и Ответственность перед лицом Организации. К сожалению, Гарланд встретил свою безвременную кончину, не закончив даже университет: он спускался по лестнице общежития, когда из-за какой-то врождённой болезни его лёгкие наполнились жидкостью, и он грохнулся замертво.
Трагедия.
А теперь следите за руками. Двадцатилетний студент, поступивший в Йель в эпоху теснейших связей молодого ЦРУ с университетами Лиги Плюща, внедрился в точку притяжения склонных к публичным выступлениям студентов консервативных взглядов и выстроил в организации жёсткие сектантские ритуалы, после чего немедленно скончался от загадочной болезни. Конечно же, он был просто пацаном. Да-да. Мы так и подумали. Вообще ничего подозрительного. (Мой личный дневник, лежавший в сумке в закрытой комнате во время дебатов, тоже просто испарился. Подумаешь. Потеряла где-нибудь.)
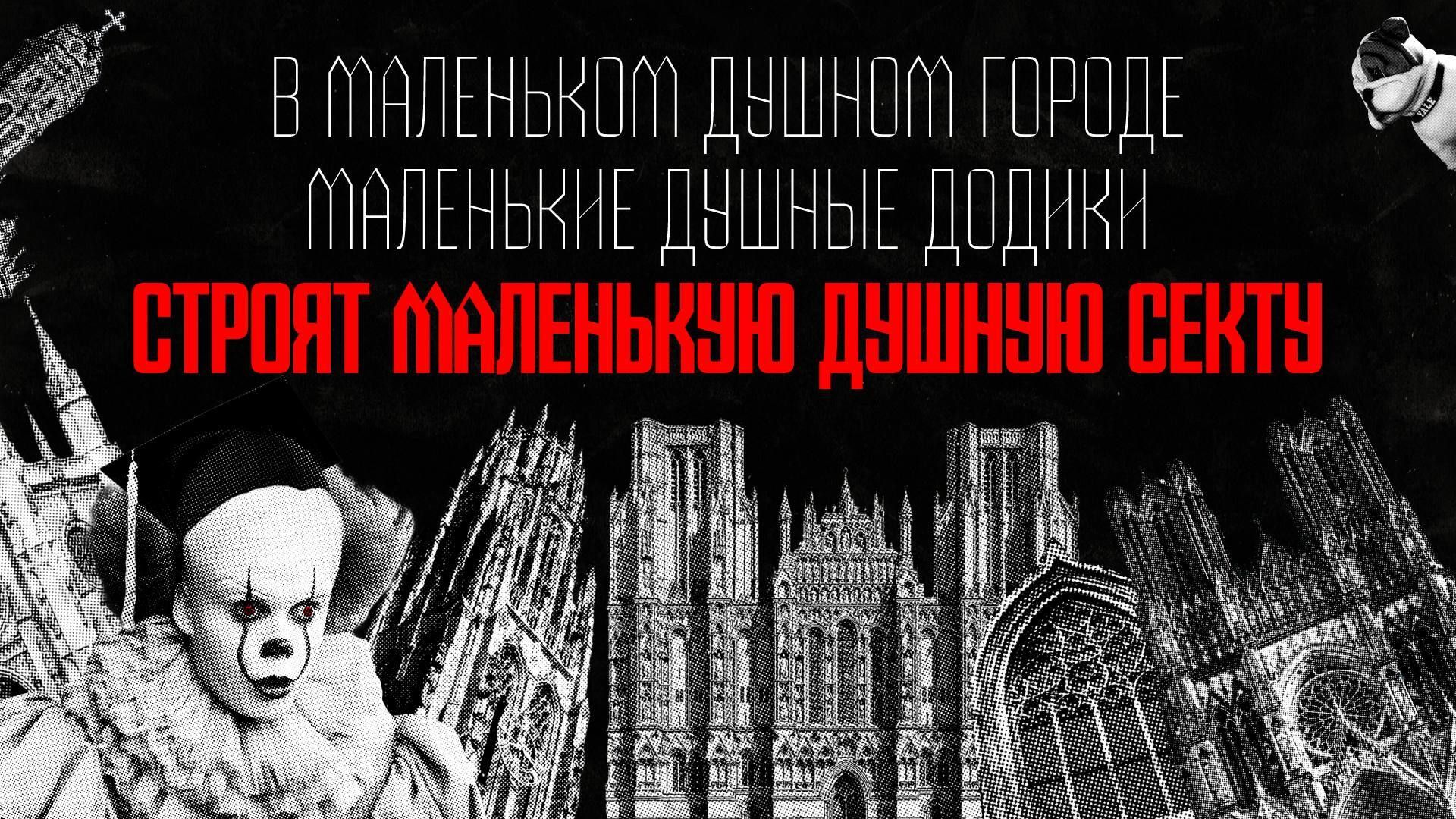
Гарланд также был отцом ключевого философского концепта организации. Дебатоцентричность с ее строгим регламентом общения была общим местом всех партий политсоюзного гетто, но только Правую партию в один голос называли «сектой». Виной тому рожденный Гарландом культ Председателя. Избранный каждый семестр из числа старшекурсников председатель организации на несколько месяцев становился Всезнающим и Всесильным актором. Он буквально переставал быть человеком.
Как такое богохульство допускала партия, минимум наполовину состоявшая из глубоко верующих (мне всё больше казалось, глубоко ларпящих) христиан, мне до сих пор совершенно непонятно. Игра во всезнание проникала во все социальные углы, связанные с социальной жизнью внутри партии. Назвать действующего председателя по имени было глубоким табу. Даже своего лучшего друга или, в случае Квинн и Вайолет, соседа по квартире, нельзя было ни в коем случае назвать иначе, как «Председатель» (The Chairman). Даже если вы в одной загрузке стирального барабана стираете свои грязные трусы. В случае, можно назвать сокращением Ти-Си. Это если председатель был особо дружелюбен и не склонен уходить в круглосуточное ношение маски всезнающего божества – крайнее меньшинство Председателей; подавляющее большинство 24/7 перлось от Абсолютной власти. Корёжение, наступавшее у членов партии при упоминании первого имени их друга, на несколько месяцев было почти физическим. Такова природа преступления табу.
Возможно, суть игры заключалась в обучении лидерству. Пусть и цирковым способом. Но степень, насколько эта игра была серьёзной, была неопределима. На словах всё это было всего лишь игрой, прикольчиком таким. Но в это играли двадцать четыре на семь. Чем больше времени ты проводишь в таких условиях, чем больше энергии ты всему этому отдаёшь, тем больше это всё кажется тебе очень, очень серьёзной вещью. Ты уже влип. Там можно было дойти и до прямого психоза.
Показная религиозность Партии приводила порой к полностью противоположным результатам – не только когда дело касалось культа Председателя.
Весной 2019 года упокоился выпускник организации Джаред Лобделл, знакомством с которым ознаменовывалось вступление каждого нового члена. Имидж этого деда к концу его жизни, как водится, был несколько подпорчен тем, что он то ли активно насиловал каких-то маленьких мальчиков, то ли просто больно активно защищал педофилию в общепартийной рассылке; короче, наш дед Джаред оказался педерастом, по другому этого и не скажешь. Это и послужило причиной, почему жена решила не хоронить Лобделла, а по-быстрому его кремировала и поставила прах в шкаф. Многие партийцы были на короткой ноге с Лобделлом, считая его добрым дедушкой и кладезью информацией по поводу партийного прошлого. На 210 Парк, бывало, сгруждались вокруг звонка по громкой связи, как будто звонили прямиком Санта-Клаусу на Южный полюс, и, кажется, не видели ничего сомнительного в дедке, который так любит пообщаться с прыщавыми юнцами по поводу студенческой организации. Впрочем, Лобделл знал добрую половину американских консерваторов, плюс — неоценимый плюс для додиков — был большим знатоком Толкиена, так что разговоры с ним не были абсолютно бессмысленными. Тем не менее, всё происходящее вызывало вопросы.
Узнав, что миссис Лобделл решила не организовывать прощание с почившим мужем, бакалавры возмутились и решили, что с этим надо что-то делать. Параллельно с этим мы с Артуром, еврейским математиком с родителями из Киева и Москвы, планировали собраться напечь у него на квартире блинов. Узнав об этом, Мигель, тогда бывший Председателем, не придумал ничего лучше, кроме как приказать отпеть Лобделла прямо у Артура дома.
Лобделл был англиканином, что с теологической точки зрения позволяло провести похоронную мессу любому мирянину. Естественно, эта роль упала на Председателя Мигеля. Что он был атеистом и в Бога совершенно не верил, игнорировалось полностью.
Итак, в назначенный час на пороге Артуровой квартирки на первом этаже кирпичной трёхэтажки (пять кладовок на две комнаты и грязный серый ковролин повсюду) материализовалась компания персонажей, одетых по полному партийному параду. Мигель в своей вечной синей тройке, ходивший под Мигелем секретарём-казначеем Гонсалез (в изящном, дорогущем костюме), выпускник Александр (за несколько лет до этого получивший ножом в горло от одного из Председателей Партии во время зашедшего не туда секс-тройничка), и тёзка покойного гегельянец Джаред, дополнивший мятый пиджак стоптанными кроссовками.
Мы с Артуром до этого пробежались по магазину, закупившись смородиновым джемом, сметаной, одноразовой посудой (в студенческой квартире, как водится, из посуды была одна сковородка и одна миска) и апельсиновым соком. Напекли кастрюльку блинов, консультируясь с Артуровой мамой по телефону. Я накрыла на стол; заунывная публика неловко столпилась вокруг пластикового стола. Гонсалез протянул публике распечатанные на общажном принтере бумажки с ходом литургии. Мы пошли по процедуре. Председатель читал все молитвы, пока не случился клинч. Когда дело дошло до Символа веры, он резко замолчал: неудивительно, учитывая, что любитель немецких философов Мигель был яростным атеистом. Из остальных присутствующих в Бога верили полтора человека. Пауза затягивалась. Молитву про веру в Бога Всемогущего пришлось заводить мне.
Эгрегор Правой партии поддерживался постоянными дебатами. Миссией организации было «сделать великих людей». Я прочитала на полу Правой партии десятки речей и просидела, выслушивая речи других, сотни часов – но из них помню только граничащую с шизофренией программную речь Вайолет о «космическом консерватизме», в котором американцы ищут инопланетную жизнь, чтобы сделать из пришельцев христиан. И мне страшно представить, какие «великие люди» создаются путем душных обсуждений философии между восемнадцатилетними американскими студентами из вершины среднего класса. Я не хочу и думать о таком мире.
Все мои реальные политические взгляды и принципы выковывались какие сильно позже, под грохотом артиллерии в Донецкой народной республике, какие раньше — просто путем вырастания в мегаполисе Москвы. Но ничто из них не родилось на партийном полу. Когда я пытаюсь вспомнить, что я вообще несла теми осенними ночами с четверга на пятницу — я вспоминаю лишь свои маленькие, душные попытки доказать этим маленьким, душным додикам, что все их принципы не стоят и выеденного гроша, пока они сами с этим не сталкивались; что все их теоретические речи, вся эпистемологическая война, вся ругань между «либами» и «традами» — всё это совершенно ни о чём; пустая болтовня богатых студентов, считающих себя «защитниками интеллектуальных ценностей». (В каком-то смысле, это тоже представляло из себя защиту определенной политической позиции.)
Во многом эта организация была продуктом середины двадцатого века и менялась прямо на глазах. Первой чёрной председательницей Партии была Алисса – мулатка из Коннектикута 2018 года выпуска. Множество старых выпускников партии было против.
Некоторые вещи, которые я увидела в универе, я поняла только сильно позже. «Самая жуткая Правая партия», состоящая из «нацистов» и «расистов», имела в своём ряду ровно одного привилегированного белого ВАСПа — буквально все остальные были либо не-белыми, либо разного рода квирами, либо эмигрантами, либо бедными представителями рабочего класса. Но даже тогда, семь лет назад, в доковидные времена торжества Войны против терроризма, вообразить, чтобы в партии оказался хоть мусульманин, было практически невзможно. Сейчас же, судя по именам персонажей, указанным во всё ещё приходящих на мою электронную почту приглашений на дебаты, Партия наполовину состоит из мусульманам-псевдотрадиционалистов. Я уверена, эти дети нуворишных профессионалов в третьем поколении диаспоры тоже ларпят свою религию. Чуть меньше католицизма, чуть больше новых времен. Проект «великого человека», молящегося на Всезнающего Председателя, стабилен, как никогда.
Начало ковида в Новой Англии чувствовалось особенно психотически. Я помню последние дебаты Правой партии, когда на кампусе уже висела атмосфера скорого конца. Тогда, в начале 2020 года, я почти не приходила на Краун-стрит, но, чувствуя, что это мой последний шанс, заглянула под конец дебатов в партийный маленький душный домик вместе с подружкой.
Было около полуночи. Дебаты уже перешли в фазу пьяной болтовни на кухне и трех-четырёх человек в зоне Партийного Пола. Перед малочисленными слушателями с ноги на ногу переваливался в своих мокасинах Мигель, покачивая пластиковым стаканчиком бурбона и отвечая на чей-то ответ на чей-то ответ на его предыдущую речь за вечер, возможно, произнесённую за четыре часа до того.
Я смотрела на него и думала: всему уже конец, что же он делает?
